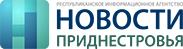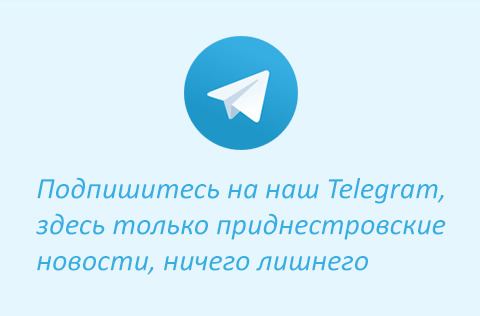Борьба экономических доктрин на примере Приднестровья
В своём Ежегодном Послании Президент Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук отметил: «Одна из задач — избавление от заблуждений последних 20 лет, что рыночная экономика самостоятельно, без активной роли государства, без чётких и ясных перспектив внешнеэкономической деятельности найдёт ответы на многие вопросы».
Как показала жизнь, посредством рыночной экономики построить в Приднестровье «маленькую Швейцарию» не удалось. Здесь можно стократ ругать власть за её «неумелое руководство» в области экономики. Но давайте сначала снова заглянем в послание. В нём Евгений Шевчук в качестве примера отрешённости государства от экономического развития страны привёл «план Кавалло».
Для тех, кто запамятовал, напомним, что был такой министр экономики Аргентины Доминго Кавалло. Суть его плана состояла в отказе от государственного регулирования экономики, полной либерализации внешней торговли и ставке на привлечение иностранных инвестиций и кредитов и, кроме того, в резком сокращении государственных расходов. Почему «план Кавалло» ещё называют «валютным правлением» (Currency Board)? Да очень просто. Вместо национального Центробанка в Аргентине главным регулятором макроэкономической политики стала жёсткая привязка денежного предложения к росту валютных резервов.
К последствиям того, чем затея господина Кавалло обернулась для Аргентины, мы ещё вернёмся. Но после дефолта 17 августа 1998 года Международный валютный фонд решил повторить «аргентинский эксперимент» в России, куда прибыл сам «экономический чудотворец» Доминго Кавалло. Был разработан «план Черномырдина-Фёдорова-Кавалло». Его претворение в жизнь предусматривало два этапа. На первом этапе шло обесценивание сбережений посредством гиперинфляции и падения курса рубля. Второй этап заключался в фиксации превратившейся в бумагу денежной массы и курса национальной валюты с переходом к «валютному правлению».
Говорить о каком-либо финансовом и экономическом суверенитете государства при данной системе не приходится. Например, для того чтобы создать собственное производство, державе сначала необходимо увеличить объёмы экспорта сырья (если оно у него есть) или взять за рубежом кредиты. Наконец, продать по дешёвке иностранцам предприятия. Когда страна находится в таком положении, дорого они всё равно их бы не купили. Под прирост кредитной валюты можно будет дополнительно эмитировать национальную денежную массу. Вам ничего это не напоминает?
Ну, как же, воскликнете вы! Мы тоже всё это проходили. Вот именно. Правда, кроме иностранцев, покупавших предприятия за бесценок, в Приднестровье появились и свои олигархи.
Кто-то может заметить, что все эти сетования от бедности и зависти. Пускай так. Но тогда ответьте, кому, например, должны завидовать два ведущих экономиста в мире — Мануэль Монтес и Чан Ха Чжун? Первый из них — сотрудник Управления стратегии и политики развития ООН. Второй — учёный Кембриджского университета, автор многих научных трудов по экономике. Вышедшая в 2010 году его книга «23 вещи, которые вам не говорят о капитализме» в мире наделала немало шума. Собственно, само название этой книги уже говорит о том, что в ней излагались крамольные для неолибералов вещи.
Недавно в Интернете автор этого материала наткнулся на выдержки из беседы Мануэля Монтеса (выступил в роли интервьюера) и Чан Ха Чжуна. Полностью она будет опубликована в книге «Двадцать способов наладить дела в мире: интервью с ведущими мировыми мыслителями» (Twenty Ways to Fix the World: Interviews with the World’s Foremost Thinkers) под редакцией Петра Дуткевича и Ричарда Саквы. Издание выйдет в свет в рамках проекта Совета по исследованиям в области социальных наук и «New York University Press» (SSRC/NYUP, 2013), осуществляемого при поддержке Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций» (Москва-Вена).
«Плана Кавалло» Чан Ха Чжун, правда, не приводил в качестве примера, но зато вспомнил «потерянное десятилетие» в Японии. Мы так самозабвенно восхищаемся японской экономикой, что многие из нас даже и не вспомнят, о чём идёт речь. Что ж, освежим память.
Заметим, что данный термин в оборот ввели сами же японские финансисты. После всемирного экономического коллапса 2008 года все заговорили о «финансовых пузырях». Меж тем было подзабыто, что Японию и США уже вовсю «пузырило» ещё в 80-х годах. Бурный рост японской экономики, отмечавшийся в 80-е годы прошлого века, затих к 90-м. Это время было ознаменовано массовыми спекуляциями со стороны японских компаний и банков. Кредиты были дёшевы и доступны. Население страны предпочитало жить в долг. Понимая, чем грозит всё раздувавшийся и раздувавшийся «финансовый пузырь», в 1989 году японский Минфин резко поднял процентные ставки. Вот тут и началось «потерянное десятилетие». Следует напомнить, что кризис 2008 года был обусловлен аналогичными процессами, происходившими в США, так называемой «рейганомикой».
"Если мы всерьёз не изменим политику, ситуация во многом будет напоминать 1990-е гг. в Японии («потерянное десятилетие»), — анализирует нынешнее состояние мировой экономики Чан Ха Чжун. — В принципе перманентной рецессии может и не быть, но за умеренным ростом экономики следует спад. Потом происходит какая-то внешняя катастрофа, и все начинают паниковать. Затем экономика может восстановиться, но что-то снова случается, мы опять скатываемся в кризис и так далее. Мне кажется, можно говорить, по сути, о повторении той ситуации, которая в Японии длилась все 1990-е годы".
Начиная с 2001 года экономическая ситуация в Японии немного стала выправляться. Правда, на производстве всё ещё, как и в кризисные годы, остаётся много временной рабочей силы. Дело в том, что во время «потерянного десятилетия» японские компании сделали ставку на временных рабочих. Они и до сих пор составляют примерно треть от занятого в реальном секторе экономики населения.
«Знаете, даже в Японии происходило некоторое переосмысление политики в том смысле, что японцы никогда не были склонны к кейнсианству, но в течение 1990-х и 2000-х гг. они чрезвычайно и беспрецедентно увеличили государственные расходы и стали больше кейнсианцами, чем прежде, — отмечает в беседе с Мануэлем Монтесом Чан Ха Чжун. — Они также начали практику, которую мы сегодня называем количественным стимулированием, так что какие-то изменения последовали».
Здесь стоит пояснить. Кейнсианство — экономическая теория, преобладавшая в капиталистических странах в 30−70-е годы прошлого века. Её основоположник Джон Мейнард Кейнс пытался проанализировать причины «Великой депрессии» в США 1929−33 годов и пришёл к выводам, что без участия государства в экономике никак не обойтись. Именно вооружившись идеями Кейнса, Франклин Делано Рузвельт и вывел США из экономического кризиса.
Соединённые Штаты, будучи морской державой, очень трепетно относятся к разного рода концепциям в данной сфере. И если доктрина адмирала Мэхана до сих пор является аксиомой для американцев в геополитике, то Морская концепция, разработанная в США в 30-х годах, стала наивысшим воплощением кейнсианства.
Согласно ей, все коммерческие суда под американским флагом должны быть построены в США, находится под американским управлением, на них должны работать исключительно американцы, плюс к этому — жёсткий контроль со стороны государства. Кейнсианство было настолько популярно во всём мире, что президент США Ричард Никсон во всеуслышание заявил однажды: «Сегодня мы — все кейнсианцы!». Правда, затем наступил период либеральной «рейганомики», плоды которой в 2008 году ощутил весь мир.
Кстати, кейнсианство как путь выхода из кризиса выбрали все ведущие мировые экономики. Однако не обошлось и без сопротивления со стороны сторонников неолиберальных экономических идей. Но, что характерно, даже некоторые идеологи «свободного рынка» признали, что Кейнс во многих вещах был прав.
«Когда в 2008 г. грянул кризис, многие ожидали перемен в экономике. Откровенно говоря, если бы любая другая теория потерпела такой крах, как теория свободной рыночной экономики, её, возможно, уже предали бы анафеме, — откровенничает Чан Ха Чжун. — Поначалу даже экономисты, стоявшие на позициях свободного рынка, посыпали голову пеплом. Например, такие как американский консерватор Ричард Познер, который согласился, что Кейнс говорил много разумных вещей. Всё это было, но я не думаю, что экономика на самом деле меняется. К сожалению, мы не наблюдаем сколько-нибудь широкого признания изъянов и недостатков капиталистической экономики. Когда английская королева посетила Лондонскую фондовую биржу, она спросила: „Почему никто не смог этого предвидеть или предсказать?“ Ответ Королевского экономического общества был таким: „Мадам, каждый экономист хорошо выполнял свою работу, но нам не хватило коллективного воображения — за деревьями мы не увидели леса“. Постойте, при чём тут воображение? Ему вообще не место в экономике свободного рынка, которая оправдывает политику невмешательства государства в экономику тем, что все ведут себя рационально и „каждый знает, что делает“. По сути дела, не было приведено ни одного вразумительного аргумента. И, по правде говоря, это даёт пищу для размышлений».
В этом то всё и дело, что если в ведущих странах мира начинают призадумываться над ущербностью свободного рынка, то у нас он чуть ли не догма. «Каваллисты» просочились даже в Верховный Совет. Хотелось бы напомнить, как парламентское большинство задробило льготный кредит для государственного сельхозпредприятия «Агро-Гиска». Речь шла о закупке сельхозтехники. Предприятие создавалось специально для снабжения продуктами питания госучреждений. Что же не понравилось парламентариям? Аргумент был найден «железобетонный»: госпоставщик будет диктовать закупочные цены. Мотивировка более чем странна. Ведь государство будет покупать продукцию у самого же себя, то есть деньги не уйдут «налево». Да и нет уверенности, что цены у «частника» были бы ниже, чем у государственной сельхозфирмы. Не прошла и президентская инициатива о создании в депрессивных регионах Приднестровья особых экономических зон с льготным налогообложением. Вот тут и выяснилось, чьи интересы прежде всего защищают некоторые депутаты. В пылу парламентских баталий по данному вопросу один из депутатов воскликнул, что государство хочет создать конкурентов предприятиям. Даже было названо одно предприятие, которое может стать жертвой конкуренции. Случайность или нет, но оно принадлежит холдингу «Шериф»… Была отклонена и инициатива о введении оффшорного сбора. Или взять пример с законопроектом депутата Олега Василатия, который предложил вычеркнуть Государственный таможенный комитет из числа валютных регуляторов. Вот это уже чистый «план Кавалло». Всё это может делаться в чьих угодно интересах, но только не государства…
«Банкиры и финансисты становились всё более могущественными, и в результате захватили политическую власть. Партийные лидеры попали в зависимость от их пожертвований, а контроль над СМИ делает политиков более податливыми. В Соединённых Штатах финансисты по большому счету оккупировали правительство. Много ли бывших министров финансов до 1980-х гг. были людьми с Уолл-стрит? Ни одного. Зато с тех пор они превратились в большинство. Если не избавиться от этой мёртвой хватки, политический баланс сил не изменится».
Не правда ли, знакомая ситуация? В Приднестровье, правда, представители крупного бизнеса заседают не в Правительстве, а в парламенте. Директора предприятий, выходцы из структур уже упомянутого нами ООО «Шериф». Разве зря Президент Приднестровской Молдавской Республики в своём послании заявил: «Приднестровским олигархам рекомендую отдохнуть от политики, чтобы данное явление не расценивалось как присвоение власти через механизм материального стимулирования и заинтересованности депутатов от выборов до ежемесячной зарплаты. Ответственность, в первую очередь, должна коснуться так называемых „депутатов на содержании у конкретных коммерческих организаций“, если таковые имеются. Создание групп не по идеологическим, а материальным интересам в органах власти недопустимо».
Но вернёмся к «плану Кавалло». Трудно сказать, чем бы эта импортная затея закончилась бы для Россией. План свернули, но рубль был девольвирован, а население заметно обнищало. Кстати, экономическое чудо и в Аргентине продлилось недолго. Изначально доктрина Кавалло была ориентирована на интересы крупного бизнеса. Быстрый рост макроэкономических показателей был сопряжён с катастрофическим обнищанием населения. В стране был полностью уничтожен средний класс. В 1999 году были опубликованы шокирующие данные Всемирного банка. Согласно им, доходы 36,1% жителей страны не позволяли приобрести минимальную продовольственную корзину, 8,6% аргентинцев жили в состоянии нищеты и потребляли калорий меньше физиологического минимума, ниже порога бедности находилось 40% детей до 14 лет. И это в стране, которая по своим климатическим условиям идеальна для сельхозпроизводства! Нищета вынудила аргентинцев выйти «на большую дорогу» — за первые пять лет политики «валютного правления» преступность выросла в семь раз. В 1998 году, по всё тем же данным, четверо из десяти жителей Буэнос-Айреса стали жертвами воров и грабителей. Если в 1992 г. доля внешнего долга едва превышала четверть ВВП Аргентины, то уже в 1996 г. она достигла почти половины, а на конец 2000 г. внешний долг Аргентины составил 54% ВВП. Долг в пять раз больше годового объёма экспорта. В 2001 году каждый новорожденный аргентинец появлялся на свет с долговым векселем в 30 тыс. долларов. Итог деятельности Кавалло как реформатора был закономерен. После манифестаций обманутых вкладчиков банков, переросших в массовые беспорядки, министр экономики Аргентины был вынужден уйти в отставку. А затем он ещё и отсидел 66 суток в тюрьме по обвинению в махинациях с экспортом вооружения…
Что для нас больше подходит «план Кавалло» или «неокейнсианство»?
28/03/13 10:42
Что для нас больше подходит «план Кавалло» или «неокейнсианство»?
Также в рубрике
23/07/25 16:20
Что известно о Романе Рошке и почему именно ему поручили вести переговоры с Приднестровьем
12/12/24 12:47
Тирасполь, 12 декабря. /Новости Приднестровья/. Молдо-приднестровскому переговорному процессу в нынешнем году исполнилось 30 лет. Но эту дату не удалось отметить какими-то договоренностями. Уходящий год здесь, к сожалению, стал еще одним этапом упущенных возможностей.